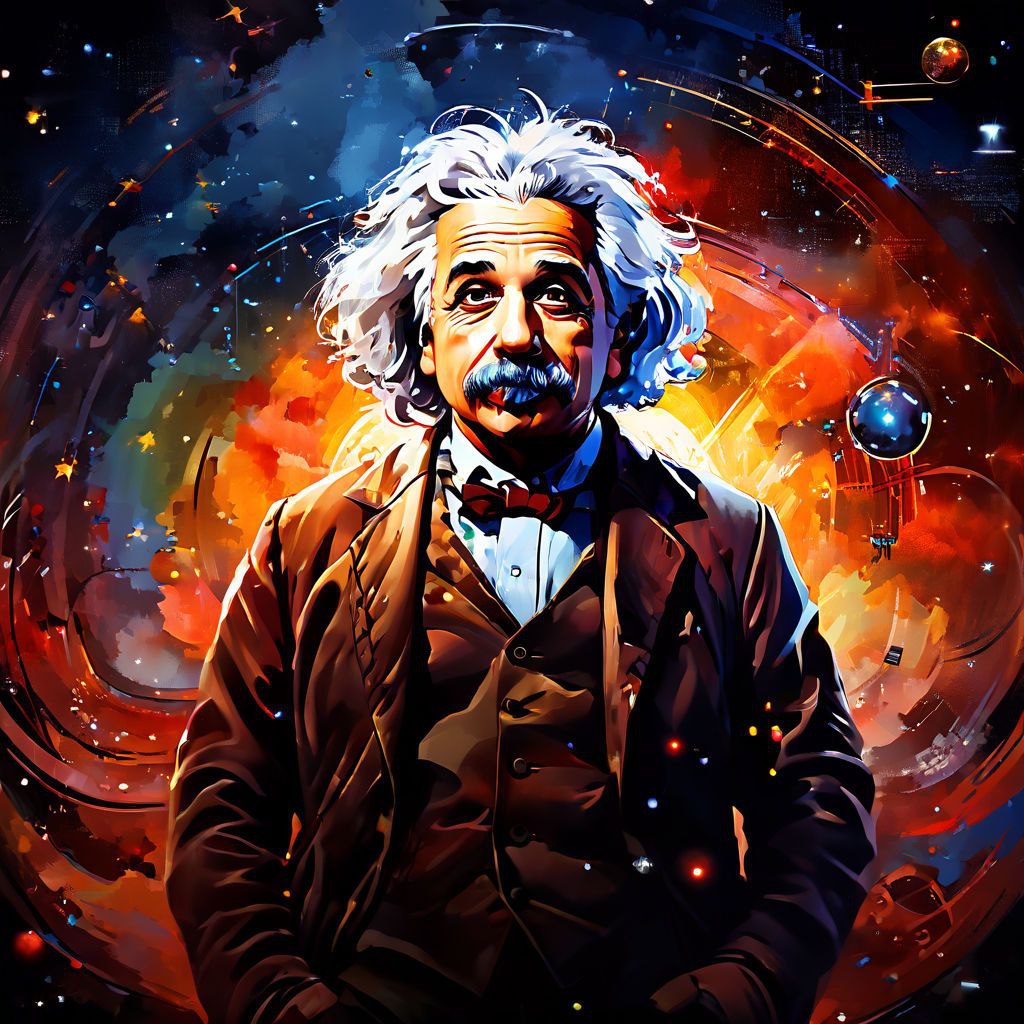
Автобиография Альберта Эйнштейна
Я, Альберт Эйнштейн, родился под сенью шпилей Ульма 14 марта 1879 года, в семье, где числа и мечты переплетались, как узоры на ковре. Мой отец, Герман, верил в магию инженерии, мать, Паулина, заставляла фортепиано петь Моцарта. Но первое чудо я узнал в пять лет, когда отец подарил мне компас. Стрелка, упрямо указывающая на север, стала моей первой загадкой: «Что невидимо движет миром?»
Детство в Мюнхене было горьковатым. Школа казалась казармой, где учителя твердили о дисциплине, а я мечтал о полётах с фотонами. В двенадцать лет, открыв учебник геометрии, я назвал его «священной книжечкой» — там царила логика, чище аккордов Баха. Но язык людей мне давался тяжело. «Из вас, Альберт, никогда ничего не выйдет», — сказал учитель. Я молчал, зная, что мои мысли громче слов.
В шестнадцать я бежал от армии в Италию, к родителям. Альпы пропели мне о свободе, а Милан научил, что истина не боится бунта. Цюрихский Политехникум стал моим спасением, хотя экзаменаторы сочли меня «ленивым щенком». Там я встретил Милеву Марич — её ум был острее, чем горные пики. Мы спорили о термодинамике и читали Спинозу, пока законы любви не стали сложнее физических.
Патентное бюро в Берне — вот где родилась революция. Семь лет я разгадывал чертежи, а в тишине ночей — уравнения. 1905-й стал «годом чудес»: я бросил вызов Ньютону, заявив, что время течёт по-разному для мухи на стекле и человека на вокзале.
«E=mc²» — эти символы перевернули мир, словно детский кубик. Но тогда я не знал, что эта формула станет и благословением, и проклятием.
В 1915-м я заточил Вселенную в кривые пространства-времени. Общая теория относительности — мой Моисеев закон. Когда в 1919-м Эддингтон подтвердил, что свет звёзд гнётся у Солнца, газеты кричали: «Новый Коперник!» Но слава оказалась тесной, как смирительная рубашка. Женщины просили автографы, а я мечтал о тишине.
Нобелевскую премию в 1921-м мне дали не за относительность, а за фотоэффект. Деньги я отдал Милеве — расплата за разбитую семью. Сыновья смотрели на меня, как на чужого, а я оправдывался: «Я служу истине, но она жестока к тем, кто её ищет».
1933 год. Германия задохнулась в дыму костров из книг. Я отказался от гражданства, став вечным странником. В Принстоне, среди яблонь, нашёл приют. Но мир катился к войне. Письмо Рузвельту о бомбе… О, как я жалел потом эти строки! Когда грибы выросли над Хиросимой, я плакал: «Если бы я знал, немцы не успеют…»
До конца дней я боролся за мир, но студенты хотели формул, а не проповедей. «Воображение важнее знаний», — твердил я, глядя на их записные книжки. Скрипка в руках утешала лучше уравнений: в «Крейцеровой сонате» не было парадоксов, только чистая боль и радость.
Умер я в апреле 1955-го, отказавшись от операции: «Хочу уйти, когда сам решу». Мозг мой разрезали на кусочки, ища секрет гениальности. Напрасно. Он хранил лишь детский восторг перед тайной — той самой, что шептала стрелка компаса.
Меня звали гением, но я был просто упрямым ребёнком, который так и не перестал спрашивать: «Почему?». Вселенная — не часы, а загадка, и я рад, что не разгадал её до конца. Ведь, как говорил Сократ: «Мудрость в том, чтобы знать, что ничего не знаешь».
А я… я лишь слегка приподнял край занавеса.
Читать далее » Моцарт
Вернуться к оглавлению книги »
